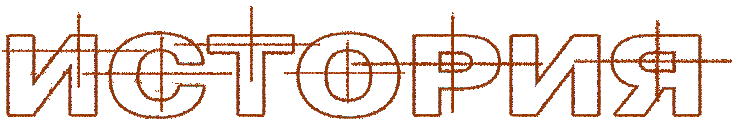Наши проекты
Обсуждения
Александр Блок Каталина
Страница из истории мировой Революции.
 Вдохновенное эссе Александра Блока «Катилина», датированное апрелем 1918 года, примыкает к таким «пифическим» творениям, как «Интеллигенция и Революция», «Двенадцать», «Скифы», когда поэт, как он сказал позже, «в последний раз отдался стихии». Эпизод из кровавых летописей Древнего Рима проецируется на страшные события российской революции, потрясшей мир, и видится в свете эпохального переворота, подобного пришествию Спасителя.
Вдохновенное эссе Александра Блока «Катилина», датированное апрелем 1918 года, примыкает к таким «пифическим» творениям, как «Интеллигенция и Революция», «Двенадцать», «Скифы», когда поэт, как он сказал позже, «в последний раз отдался стихии». Эпизод из кровавых летописей Древнего Рима проецируется на страшные события российской революции, потрясшей мир, и видится в свете эпохального переворота, подобного пришествию Спасителя.
В издание, кроме репринтного воспроизведения «Катилины» («Алконост», 1919), входят также комментарии и сопутствующие материалы, позволяющие увидеть культурный контекст блоковского мифа и представить дальнейшую эволюцию поэта, который в итоге пришел к отрицанию «скифского» насилия и утверждению верховенства человеческой совести.
 АЛЕКСАНДР БЛОК
АЛЕКСАНДР БЛОК
КАТИЛИНА
Страница из истории мировой Революции.
„АЛКОНОСТ"
Петербург
1919
1.
Люций Сергий Катилина, римский революционер, поднял знамя вооруженного восстания в Риме за 60 лет до рождения Иисуса Христа.
Ученые нового времени полагают, что жизнь Каталины не получила до сих пор справедливой оценки. Правы они в этом или нет, мы посмотрим.
Во всяком случае, они правы по отношению к ученым филологам; эти—действительно не умели справедливо оценить Катилину; в руках у них были источники, принадлежащие перу его яростных врагов: историка Саллюстия и оратора Цицерона; источники, к тому же, весьма талантливые; а собственное соображение и собственная группировка фактов, как известно, доступны очень немногим филологам. Так и случилось то, что филологи хватились переоценивать слишком поздно, когда переоценка уже давно была произведена—только не ими.
Прежде, чем говорить о самом Катилине, я хочу коротко сказать о Риме его времени.
То было время давно непрекращавшихся внешних войн и гражданских раздоров. Внешние завоевания старой республики (Рим был республикой с V века) все расширялись. С III века Рим стал перерастать сам себя, выходя далеко за пределы Италии. К тому времени, о котором идет речь, были уже завоеваны Сицилия, Цизальпинская Галлия, Сардиния, Корсика, Испания, Иллирия, Кареагенская область, Греция, Македония. Рим готовился овладеть на востоке Сирией, Малой Азией, Иудеей, Египтом, на западе Галлией Трансальпийской; все это досталось ценою потери республики, что произошло за 30 лет до Р. Хр.; после этого, великая держава, все продолжавшая внешним образом шириться и рости, стала погружаться в тени и уплывать из мира. „Падение римской империи" совершалось столетиями, медленно и неуклонно, преисполненное житейской пестроты и сутолоки, как все в мире; но ослепительный луч, пред'указавший это падение, сверкнул именно в это время, предопределив ход „человеческой трагикомедии" на столетия раньше.
Иисус Христос родился за четыре с половиной столетия до гибели Римской Империи; через несколько десятков лет после Христа, Тациту уже выпало на долю оплакать падение старого мира и больной цивилизации и воспеть мощь и свежесть грядущих в мир варваров; а за несколько десятков лет до Христа бедному Катилине выпало на долю восстать против старого мира и попытаться взорвать растленную цивилизацию изнутри.
 Итак, Рим, счастливый обладатель республиканских вольностей и великодержавный завоеватель почти всего известного в то время мира, уже сам, как это всегда бывает, не имел власти сдержать размах собственных притязаний на окончательное мировое владычество и свои империалистические аппетиты; он продолжал воевать. Войны эти порождали безконечные внутренние затруднения в области продовольствия, финансов, военного дела; правительство было не в силах справиться с такими затруднениями. Власть непрестанно переходила из рук одного диктатора в руки другого. Между тем, солдаты, которые набирались из беднейших классов, были изнурены войной, требовали огромных денег и просто отказывались воевать; так что, всеобщая воинская повинность сделалась невозможной; военачальники стремились к удовлетворению личных честолюбий; большинство граждан беднело, а в руках немногих сосредоточивались громадные капиталы, нажитые военными грабежами, спекуляциями, взятками; рост городского пролетариата усиливался с непомерной быстротой, так как землю в разоренных и разграбленных наместникамиказнокрадами провинциях поделить не могли; однако, несмотря на то, что в столице, в течение ряда годов, происходила резня буржуазии, у власти продолжали оставаться олигархи, т. е. небольшая кучка лиц, соблазнявших народ даровой роздачей хлеба и богатыми зрелищами, но неспособных улучшить продовольствие и суды, искоренить взяточничество, справедливо распределить землю, которую богатые попрежнему скупали, или просто отбирали даром у бедных.
Итак, Рим, счастливый обладатель республиканских вольностей и великодержавный завоеватель почти всего известного в то время мира, уже сам, как это всегда бывает, не имел власти сдержать размах собственных притязаний на окончательное мировое владычество и свои империалистические аппетиты; он продолжал воевать. Войны эти порождали безконечные внутренние затруднения в области продовольствия, финансов, военного дела; правительство было не в силах справиться с такими затруднениями. Власть непрестанно переходила из рук одного диктатора в руки другого. Между тем, солдаты, которые набирались из беднейших классов, были изнурены войной, требовали огромных денег и просто отказывались воевать; так что, всеобщая воинская повинность сделалась невозможной; военачальники стремились к удовлетворению личных честолюбий; большинство граждан беднело, а в руках немногих сосредоточивались громадные капиталы, нажитые военными грабежами, спекуляциями, взятками; рост городского пролетариата усиливался с непомерной быстротой, так как землю в разоренных и разграбленных наместникамиказнокрадами провинциях поделить не могли; однако, несмотря на то, что в столице, в течение ряда годов, происходила резня буржуазии, у власти продолжали оставаться олигархи, т. е. небольшая кучка лиц, соблазнявших народ даровой роздачей хлеба и богатыми зрелищами, но неспособных улучшить продовольствие и суды, искоренить взяточничество, справедливо распределить землю, которую богатые попрежнему скупали, или просто отбирали даром у бедных.
 Историк Саллюстий, живший в это время, рассказывает о нем так:
Историк Саллюстий, живший в это время, рассказывает о нем так:
„Оптиматы начали обращать свое достоинство в надменность, а народ свою свободу в необузданность. Каждая сторона все, что могла, тащила себе, рвала, грабила. Все разделилось на две партии, и они расдирали государство, лежавшее между ними. Олигархи были, впрочем, могущественнее, как одна дружная партия, народ же имел менее значения, ибо здесь не было такой связи, и его сила терялась в массе. Государство управлялось во время мира и войны по произволу немногих. В их руках была казна, провинции, должности, слава и триумфы; остальные граждане были удручены бедностью, отягощены службой в легионах; полководцы делили военную добычу с немногими, а между тем, родители и дети воинов изгонялись из своих поместий, ежели по несчастию, их участок находился близ именья могущественного соседа. Олигархи все оскверняли и опустошали; ни до чего им не было дела, ничего для них не было святого дотоле, покуда они не рухнули в бездну, которую сами себе подготовили. Ибо, когда нашлись в самой олигархии люди, которые предпочли истинную славу незаконному своему могуществу, тогда зашатался город, и поднялся, как хаос, раздор гражданский".
 Автор этого талантливого и высоконравственного описания сам занимал довольно высокий пост в провинции, причем оставил по себе очень плохую память: ему удалось выжать все соки из богатой страны взятками и поборами; размеры этих взяток были так исключительны, что на них обратили внимание даже в то время, когда такой способ обогащения считался делом обыкновенным и общепринятым. Саллюстия предали суду; пришлось обратиться к протекции Цезаря; Цезарь ходатайствовал перед судьями за своего верноподданного; суд оправдал чиновника; ведь никакие республиканские вольности не освобождают людей от уважения к влиятельным лицам! Что же сталось с народными деньгами, расхищенными Саллюстием? Их употребили на покупку дачи для Цезаря около Тибура и на разбивку великолепных садов при даче Саллюстия в Риме.
Автор этого талантливого и высоконравственного описания сам занимал довольно высокий пост в провинции, причем оставил по себе очень плохую память: ему удалось выжать все соки из богатой страны взятками и поборами; размеры этих взяток были так исключительны, что на них обратили внимание даже в то время, когда такой способ обогащения считался делом обыкновенным и общепринятым. Саллюстия предали суду; пришлось обратиться к протекции Цезаря; Цезарь ходатайствовал перед судьями за своего верноподданного; суд оправдал чиновника; ведь никакие республиканские вольности не освобождают людей от уважения к влиятельным лицам! Что же сталось с народными деньгами, расхищенными Саллюстием? Их употребили на покупку дачи для Цезаря около Тибура и на разбивку великолепных садов при даче Саллюстия в Риме.
 Саллюстий покаялся. Когда не стало его могущественного покровителя, которому Саллюстий был всем обязан, он уединился в собственной вилле и здесь, в тени вышеупомянутых садов, предался литературным занятиям. Первым его трудом был „Каталина"; здесь историк лишь пробовал перо на легком деле: он изобличал всеми признанного революционера и негодяя; далее, перо Саллюстия разошлось, и он написал блестящую историю войны с Югуртой; здесь он выместил все свои личные обиды; действительно, изображение грязи и болезней, раз'едавших господствующую партию, ярко и сильно, о чем свидетельствует выщеприведенная страница; правда, не все разделяют симпатии Саллюстия, которые отданы полководцу Марию, но надо войти в положение обиженного бюрократа из плебеев, для того чтобы понять, что думать иначе он не мог.
Саллюстий покаялся. Когда не стало его могущественного покровителя, которому Саллюстий был всем обязан, он уединился в собственной вилле и здесь, в тени вышеупомянутых садов, предался литературным занятиям. Первым его трудом был „Каталина"; здесь историк лишь пробовал перо на легком деле: он изобличал всеми признанного революционера и негодяя; далее, перо Саллюстия разошлось, и он написал блестящую историю войны с Югуртой; здесь он выместил все свои личные обиды; действительно, изображение грязи и болезней, раз'едавших господствующую партию, ярко и сильно, о чем свидетельствует выщеприведенная страница; правда, не все разделяют симпатии Саллюстия, которые отданы полководцу Марию, но надо войти в положение обиженного бюрократа из плебеев, для того чтобы понять, что думать иначе он не мог.
Марий был человек, созданный войной и для войны; т. е., создание бессмысленное и вредное. Это был человек огромной личной храбрости, хвастун, „любимец солдат" и городской черни и принципиальный невежда, питавший глубокое презрение ко всякому образованию—презрение, свойственное людям неразвитым. Плебей по происхождению, как и Саллюстий, он достиг высших военных должностей без протекции; из солдата и центуриона (унтерофицера) скоро превратился в полководца. Как же мог не отдать такому человеку всех своих симпатий Саллюстий, который и сам воевал когда то, хотя и неудачно, и был тоже не знатного происхождения; в обоих была „военная косточка"; оба презирали и ненавидели чуждых и непонятных им „образованных аристократов", вроде Суллы, счастливого соперника Мария; Саллюстий не пожалел красок для того, чтобы изобразить в лице Суллы всю глубину падения аристократии. Историк преуспел в этом деле, потому что матерьял был, действительно, богатый.
 В противоположность суровому, тяжеловесному, молчаливому и жестокому солдату Марию, который не брал взяток даже тогда, когда их брали все офицеры и все нижние чины, подрывая этим последнюю дисциплину в войсках,—Сулла был человеком свободным и легким. Родом он был очень знатен; сорил деньгами, любил славу и удовольствия. Неповоротливый старик Марий таскал за собой всюду какую то еврейскую гадалку Мареу, которой слепо слушался во всех своих начинаниях; Сулла, бегавший за танцовщицами, был красноречив и быстр во всех своих делах. Он обладал большими дипломатическими способностями; ему легко удалось втереться в доверие к Марию, заслужить одобрение солдат, одолжая деньги направо и налево, и — вырвать победу у Мария из под носу: единственно, при помощи ловкости и проворства рук, он добился того, чего не удавалось сделать железом: хитростью заманил он в ловушку и забрал в плен вороватого и кровожадного африканского царька Югурту.
В противоположность суровому, тяжеловесному, молчаливому и жестокому солдату Марию, который не брал взяток даже тогда, когда их брали все офицеры и все нижние чины, подрывая этим последнюю дисциплину в войсках,—Сулла был человеком свободным и легким. Родом он был очень знатен; сорил деньгами, любил славу и удовольствия. Неповоротливый старик Марий таскал за собой всюду какую то еврейскую гадалку Мареу, которой слепо слушался во всех своих начинаниях; Сулла, бегавший за танцовщицами, был красноречив и быстр во всех своих делах. Он обладал большими дипломатическими способностями; ему легко удалось втереться в доверие к Марию, заслужить одобрение солдат, одолжая деньги направо и налево, и — вырвать победу у Мария из под носу: единственно, при помощи ловкости и проворства рук, он добился того, чего не удавалось сделать железом: хитростью заманил он в ловушку и забрал в плен вороватого и кровожадного африканского царька Югурту.
Хотя триумф по окончании этой войны достался Марию, последний не мог простить Сулле того, что произошло; борьба между этими двумя людьми разгорелась; борьба, стоившая жизни Марию, кончилась торжеством Суллы; естественно, что всего этого никогда не мог простить Сулле обойденный аристократами Саллюстий, который скорбит по этому случаю и о падении старинной римской доблести, и об уничтожении дисциплины в войсках; вообще обо всем, о чем свойственно скорбеть чиновникам, которые всю жизнь грели руки около правых убеждений и вдруг оказались не у дел, по случаю победы партии, им враждебной.
Слаб человек, и все ему можно простить, кроме хамства; так и Саллюстию можно, пожалуй простить и разврат, и взяточничество, и подхалимство; все это ему и простил уже один английский историк — за его „талант"; нельзя только простить ему одного: принятого им нравственного и патриотического тона. „От стыдали, от досадыли, я не хочу терять слов на описание того, что делал Сулла", ломается Саллюстий; вот это ломание даровитому стилисту и взяточнику простить трудно.
Если грабеж и взяточничество были распространены в такой мере и даже возведены в систему среди представителей власти, то естественно, что мелкие жулики тоже не отставали; они образовали, где только возможно, банды „пиратов" и грабителей. Век отличался, вообще, как принято говорить среди филологов, повсеместным падением нравов и ростом самого ужасного разврата.
 На профессорском языке развратом называется все: и мелкое взяточничество, и низкие похоти, и великие мечты и страсти, иногда находящие исход в преступлении и приводящие к гибели. Эта гибель вспыхивает пламенем дымного факела над обреченной головой. Мрачный свет этого факела падает в грядущие столетия, и они умеют оценить по новому того, кто погиб жертвою неотступной мечты и непреодолимой страсти. Так и в тот великий век; он создал взяточника Саллюстия и честного законника Цицерона; оба они сошлись, однако, на непримиримой злобе к „изменнику родины" Каталине; но тот же век создал царицу цариц Клеопатру, и битву при Акциуме, в которой римский триумвир отдал весь флот великой державы за любовь египтянки; он же создал, наконец, и революционный порыв промотавшегося беззаконника и убийцы — Каталины.
На профессорском языке развратом называется все: и мелкое взяточничество, и низкие похоти, и великие мечты и страсти, иногда находящие исход в преступлении и приводящие к гибели. Эта гибель вспыхивает пламенем дымного факела над обреченной головой. Мрачный свет этого факела падает в грядущие столетия, и они умеют оценить по новому того, кто погиб жертвою неотступной мечты и непреодолимой страсти. Так и в тот великий век; он создал взяточника Саллюстия и честного законника Цицерона; оба они сошлись, однако, на непримиримой злобе к „изменнику родины" Каталине; но тот же век создал царицу цариц Клеопатру, и битву при Акциуме, в которой римский триумвир отдал весь флот великой державы за любовь египтянки; он же создал, наконец, и революционный порыв промотавшегося беззаконника и убийцы — Каталины.
2.
Каталина принадлежал к знатной и разорившейся семье. У него было устроенное тело и устроенная голова. Он был красноречив и образован; таким рисует его история.
Каково было образование Каталины, мы не знаем. Но мы знаем, каково было образование римлян его времени и его сословия.
Государство разбухало неудержимо. Чем дальше заходили его успехи, тем труднее становилось жить людям, тем ожесточеннее становилась борьба их за существование; и народ, который от природы был народомпрактиком, устремил все силы и все способности на практическую жизнь. Оттого и воспитание и образование детей было устремлено на то же. Эта картина опятьтаки очень нам знакома; так ведь воспитывается всякий средний человек в современной Европе: упражжнять волю, не падать духом, сохранять всегда бодрость, готовиться стать хорошим пушечным мясом и гражданином.
Это воспитание подготовляет к чему угодно, кроме самого главного и единственно нужного человеку; результат его был на глазах у всего Рима, он на глазах и у нас: большинство — тупеет и звереет, меньшинство—хиреет, опустошается, сходит с ума. Глаза Рима, как и наши глаза, не видели этого; а если кто и видел, то не умел предупредить страшной болезни, которая есть лучший показатель дряхлости цивилизации: болезни вырождения. За этим опошленным словом стоит довольно жуткое содержание.
Каталина начал службу в войсках Суллы. Если Марий, пополняя недостаток в людях, который становился все ощутительнее, набирал в своя войска последнюю сволочь, то Сулла дошел в этом отношении до крайних пределов. Вся цель его заключалась в том, чтобы завлечь людей в войско; он льстил солдатам и платил им огромные деньги. Дисциплина была совершенно подорвана, солдаты в походах пьянствовали и развратничали; эти люди отвыкшие от земледельческого труда, были грозой для столицы; едва какомунибудь богачу надо было получить лишний голос в сенате, он подольщался к солдатам; солдаты являлись по первому его знаку в Рим, наводняли город, ночуя около храмов на улицах, и отстаивали своего кандидата не одним голосованием, но и оружием. Недовольство среди них, вечный спутник праздной и бессмысленной военной жизни, росло; с ним вместе готова была разразиться гражданская война.
В такой то среде жил Катилина, который выделялся среди всех храбростью, физической силой и выносливостью. Он умел сносить голод, холод и жар. Наружность Катилины, по описанию, представляется такой: его взгляд был дик и неприятен; его походка была то ленивая, то торопливая. Катилина предавался крайним порокам; он убил своего брата, жену И сына; последнего он убил за то, что тот был против его связи с кокоткой Орестиллой; кроме того, говорят, что Катилина был в связи с весталкой и с родной дочерью. Если даже три четверти всего этого—злобная сплетня, то и остающейся четверти довольно.
Проходя ряд государственных должностей, Катилина проявил наклонность к корыстолюбию; при управлении Африкой, он был обвинен в лихоимстве; защищал его тогда Цицерон, впоследствии—его злейший враг. Однако, Цицерон признавал обаяние Каталины; он говорил, что тот, кто раз сойдется с Катилиной, уж не оставляет его и совершенно подпадает его влиянию.
Катилина увлекал своими громадными замыслами, которыми он блистал среди развратной золотой молодежи, окружавшей его и составлявшей его гвардию; он пировал с ними, таскался по улицам и притонам, сорил день гами; слухов о преступлениях этих людей, сидевших, как и сам Катилина, по уши в долгах, не перечесть. Самая ужасная сплетня (пущенная позже Плутархом) заключалась в том, что они поклялись в верности Катилине и, в подтверждение клятвы, принесли в жертву человека, причем с'ели по  куску человеческого мяса.
куску человеческого мяса.
Благодаря такой ужасной и соблазнительной славе, Катилина был любимцем римской аристократии, в особенности—женщин. Однако, когда он стал искать консульства, его не выбрали, ибо нашлись люди, которые понимали всю его опасность для государства; нашлись также люди, которые помнили его дела в Африке. Тут то Катилина и составил свой первый заговор, набрав себе в соратники до четырехсот человек. В заговоре участвовали не одни головорезы; по некоторым данным, к нему примыкал умный, осторожный и вкрадчивый Цезарь. Многие из этих людей надеялись, при помощи Каталины, устроить собственное благополучие и удовлетворить свое честолюбие. Точно так же смотрел на заговор Помпей, в те годы воевавший в стороне от Рима, и вся его партия. Беспорядки и анархия в Риме были выгодны Помпею.
Весь Рим ждал, что заговор вспыхнет в определенный день. Были вызваны на этот случай войска, но, в сущности, никаких решительных мер принято не было; никто и не думал арестовать Катилину.  Анархия уже царствовала в Риме, не принимая пока определенной формы, а правительство было совершенно слабо и лишено власти; к тому же, многие из членов правительства — или были сами причастны, или относились сочувственно к заговору против сената.
Анархия уже царствовала в Риме, не принимая пока определенной формы, а правительство было совершенно слабо и лишено власти; к тому же, многие из членов правительства — или были сами причастны, или относились сочувственно к заговору против сената.
О целях заговора и размерах участия в нем Каталины ученые спорят. Все согласны, разумеется, только в одном,—что у Каталины были неоплатные долги, и что он надеялся При помощи восстания поправить свои денежные дела; но, так как даже филологам кажется, что это об'яснение недостаточно, они рассуждают о том, чего искал Каталина: искал диктатуры; хотел быть „вторым Суллой"; добивался „проскрипций" (известный в то время способ—истребить часть граждан с тем, чтобы забрать их именья в государственную, т. е. в личную собственность): некоторые полагают, что Катилина был только вовлечен в этот заговор; хотя он и принимал в нем энергичное участие, но был только орудием Цезаря и Красса. Истинные же цели Каталины признаются не совсем ясными, так как известия об этом первом заговоре скудны и противоречивы. О том, что Катилина был народолюбцем, или мечтал о всеобщем равенстве,речи,конечно, быть не может. Катилина был революционером всем духом и всем телом; он был сыном жестокого и практического народа; никакая отвлеченная теория, или кабинетная мысль не могли одушевлять его. Но, если отсутствие в его голове уравнительных идей неоспоримо, то также неоспоримо и то, что он был создан социальным неравенством, вскормлен в его удушливой атмосфере. Это не значит, конечно, что Катилина бичевал пороки современного общества; напротив, он соединил все эти пороки в своем лице и довел их до легендарного уродства. Он имел несчастие и честь принадлежать к числу людей, которые „среди рабов чувствуют себя рабами"; многие умеют говорить об этом красно, но почти никто не подозревает, какой простой и ужасный строй души и мысли порождает такое чувство, когда оно достигает действительно человеческой силы, когда оно наполняет все существо человека; едва начнут подозревать, как уже с отвращением, или с презрением, отшатываются от таких людей.
Простота и ужас душевного строя обреченного революционера заключается в том, что из него как бы выброшена длинная цепь диалектических и чувственных посылок, благодаря чему выводы мозга и сердца предстаиляются дикими, случайными и ни на чем не основанными. Такой человек—безумец, маниак, одержимый. Жизнь протекает, как бы, подчиняясь другим законам причинности, пространства и времени; благодаря этому,и весь состав— и телесный и духовный — оказывается совершенно иным, чем у „постепеновцев"; он применяется к другому времени и к другому пространству. Когда то в древности явление превращения, „метаморфозы" было известно людям; оно входило в жизнь, которая была еще свежа; не была осквернена государственностью и прочими наростами, порожденными ею; но в те времена, о которых у нас идет речь, метаморфоза давно уже „вышла из жизни"; о ней стало „трудно думать"; она стала метафорой, достоянием литературы; поэт Овидий, например, живший немного позже Каталины, знал, очевидно, состояние превращения; иначе, едва— ли, ему удалось бы написать свои пятнадцать книг „Метаморфоз"; но окружающие Овидия люди уже опустились на дно жизни: произведения Овидия были для них, в лучшем случае, предметом эстетической забавы, рядом красивых картинок, где их занимали сюжет, стиль и прочие постылые достоинства, но где самих себя они уже не узнавали.
Так как мы все находимся в тех же условиях, в каких были римляне, т. е., все запылены государственностью, и восприятие природы кажется нам восприятием трудным, то я и не стану навязывать своего об'яснения темпе рамента революционера при помощи метаморфозы. Сколь убедительным ни казалось бы мне это об'яснение, я не в силах сделать его жизненным. Поэтому я и не прибегаю к нему и обращаюсь к другим способам, может быть, более доступным.
Двадцать столетий, протекшие со дня заговора Каталины, не дали филологам достаточного количества рукописей; зато, они дали нам большой внутренний опыт. Мы уже можем смело сказать, что у иных людей, наряду с материальными и корыстными целями, могут быть цели очень высокие — нелегко определяемые и осязаемые. Этому нас, русских, научил, например, Достоевский. Поведение подобных людей выражается в поступках, которые диктуются темпераментом каждого: одни— таятся и не проявляют себя во внешнем действии, сосредоточивая все силы на действии внутреннем; таковы — писатели, художники; другим, напротив, необходимо бурное, физическое, внешнее проявление; таковы — активные революционеры. Те и другие одинаково наполнены бурей и одинаково „сеют ветер", как полупрезрительно привык о них выражаться „старый мир"; не тот „языческий" старый мир, где действовал и жил Катилина, а этот, „христианский" старый мир, где живем и действуем мы.
Выражение „сеять ветер" предполагает „человеческое, только человеческое" стремление разрушить правильность, нарушить порядок жизни. Вот почему к этому занятию относится пренебрежительно, иронически, холодно, недружелюбно, а, в иных случаях, с ненавистью и враждою—та часть человечества, которая создавала правильность и порядок и держится за него.
Но напрасно думать, что „сеяние ветра" есть только человеческое занятие, внушаемое одной лишь человеческой волей. Ветер поднимается не по воле отдельных людей; отдельные люди чуют и как бы только собирают его: одни дышат этим ветром, живут и действуют, надышавшись им; другие бросаются в этот ветер, подхватываются им, живут и действуют, несомые ветром. Катилина принадлежал к последним. В его нремя подул тот ветер, который разросся в бурю, истребившую языческий старый мир. Иго подхватил ветер, который подул перед рождением Иисуса Христа, вестника нового мира.
Только имея такую предпосылку, стоит разбираться в темных мирских целях заговора Каталины; без нее они становятся глубоко неинтересными, незначительными, ненужными; исследование их превращается в историческое гробокопательство филологов.
3.
Первый заговор Каталины не удался. Были ЛИ тому причиной несогласия в среде заговорщиков, или их неосторожность, неизвестно. Вопрос этот столь же туманен для науки, Сколь мало интересен для нас; мы знаем, что „всему свое время под солнцем", что воплощцется лишь то, что созрело для воплощения.
Катилина не оставил своих замыслов; через год он вновь начал добиваться консуль ства. Тут то ему пришлось, наконец, столкнуться вплотную с Цицероном, с которым они, до поры до времени, друг друга взаимно охаживали. Прежде, чем разсказать, кто из них вышел победителем из этой борьбы, посмотрим, что за человек был Цицерон.
 Цицерон принадлежал к культурнейшим людям своего времени. Человек незнатного происхождения, он сумел получить весьма разнообразное образование и посвятил себя законоведению. Он был, как сказали бы у нас, „помощником знаменитого присяжного поверенного" (Муция Сцеволы); некоторое время он отбывал воинскую повинность, но скоро оставил это занятие и предался жизни интеллигентной, полагая, что „воинская служба уступает гражданской, и лавр—красноречию". Конечно, он не был тем, что в наше время называется словом .пораженец"; он не был им, почему ему и не пришлось произвести такого гигантского и не совсем ловкого прыжка от „пораженчества" к „оборончеству", и даже еще гораздо дальше, какой пришлось недавно произвести многим умеренным русским ин теллигентам. Нет, он рассуждал гораздо последовательнее; я думаю, не потому, чтобы он был головой выше многих русских интеллигентов; нет, Цицероны есть в России и в наше время; может быть, это можно об'яснить тем, что в Риме был уже четыреста лет республиканский образ правления, и римская интеллигенция, развиваясь более естественноне была так оторвана от почвы; она не надорвалась так, как наша, в непрестанных сражениях с чем то полусуществующим, тупым, бюрократическиидиотским.
Цицерон принадлежал к культурнейшим людям своего времени. Человек незнатного происхождения, он сумел получить весьма разнообразное образование и посвятил себя законоведению. Он был, как сказали бы у нас, „помощником знаменитого присяжного поверенного" (Муция Сцеволы); некоторое время он отбывал воинскую повинность, но скоро оставил это занятие и предался жизни интеллигентной, полагая, что „воинская служба уступает гражданской, и лавр—красноречию". Конечно, он не был тем, что в наше время называется словом .пораженец"; он не был им, почему ему и не пришлось произвести такого гигантского и не совсем ловкого прыжка от „пораженчества" к „оборончеству", и даже еще гораздо дальше, какой пришлось недавно произвести многим умеренным русским ин теллигентам. Нет, он рассуждал гораздо последовательнее; я думаю, не потому, чтобы он был головой выше многих русских интеллигентов; нет, Цицероны есть в России и в наше время; может быть, это можно об'яснить тем, что в Риме был уже четыреста лет республиканский образ правления, и римская интеллигенция, развиваясь более естественноне была так оторвана от почвы; она не надорвалась так, как наша, в непрестанных сражениях с чем то полусуществующим, тупым, бюрократическиидиотским.
Как бы то ни было, Цицерон остался штатским в то время, когда в моде были военные, ибо римский империализм был ненасытен, и его размаха хватило еще века на три после описываемого мной времени.
Первая „защита" Цицерона была блестяща. Отчаянное честолюбие помогло ему победить недостатки в произношении и неуклюжесть телодвижений и добиться адвокатской славы.
После этого ему удалось показать и административные таланты. Во время непомер ной дороговизны с'есгных припасов, он управлял Сицилией, откуда приходилось грузить хлеб на Рим; тут проявились твердость и добросовестность Цицерона; ему удалось прижать сицилианцев не мало и не много,—ровно настолько, что ни сицилианцы, ни римляне не померли с голоду; к тому же, он с'умел, обладая умеренным состоянием, и отказываться от взяток и не показаться от того дураком, для чего тоже требовалось всегда не малое искусство.
Возвратясь в Рим, Цицерон ушел, как говорят, с головой в общественность, выиграл еще один блестящий процесс (Верра) и прошел ряд административных должностей, достигнув, наконец, консульского достоинства, в получении которого ему одинаково способствовали и дворяне, и „народ"; главным образом, говорит история, первые.
До сих пор, Цицерон принадлежал к так называемой „народной партии"; но поддержка олигархов вызвала перемену в его воззрениях, и он присоединился к партии сената; разумеется, поправению либерального адвоката пособствовали причины самые „уважительные": рост римской разрухи, все возрастающая дороговизна с'естных припасов, а, главное, возникновение заговора Катилины, как раз с этим временем совпавшее: надо ведь было спасать свое отечество, т. е. безмерно разбухающее и начинающее выказывать явные призраки разложения государственное тело Рима; надо было спасать ту „великую культуру", которая породила и еще должна была породить так много ценностей, но которой через несколько десятков лет был произнесен навеки и бесповоротно приговор на другом суде —на суде нелицемерном, на суде Иисуса Христа.
Итак, римская знать, забыв всякие разпоры и несогласия, сплотилась теперь вокруг чуждого ей до сих пор Цицерона, и они принялись вместе защищать свое громадное, расплывшееся отечество от маленькой кучки людей, которая вся помещалась в нескольких домах Рима и провинции, но во главе которой СТОЯЛ далеко не расплывшийся, а собранный и острый человек—Катилина. Тут то нашла себе выражение настоящая деловитость Цицерона, его увертливость, его дипломатическая тонкость. Началось с того, что он, как впоследствии юристы всех веков, взялся защищать Катилину тогда, когда, по его собственному выражению, „не признать его виновным значило бы признать, что среди бела дня темно". Защита касалась обвинений Каталины в лихоимстве во время управления африканскими провинциями, а цель ее состояла в том, чтобы Катилина, в случае оправдания, оказался сговорчивее на следующих выборах в сенат. Защитить Катилину Цицерону удалось; но тут то Катилина, против ожиданий, и не смирился.
Катилина все еще думал, что удача на его стороне, что многие сенаторы ему сочувствуют; он дерзко отвечал Цицерону: „Какое я делаю зло, если из двух тел, одно из которых тоще и слабо, но с головою, а другое— велико и сильно, но без головы, выбираю последнее, для того, чтобы дать ему голову, которой у него нет?"
Цицерон понял иносказание; оно относилось к сенату и народу. В день выборов Ци церон надел латы и вышел на Марсово поле в сопровождении знатной молодежи, причем умышленно показал часть лат, чтобы дать этим понять, какой опасности он подвергается. „Народ" (так называет Плутарх собравшуюся здесь толпу римской публики) выразил свое негодование и окружил Цицерона. Катилина нторично не был выбран в консулы.
Тогда Катилина собрал своих молодцов и распределил роли: одни должны были поджечь город с двенадцати концов; другие— перерезать всех сенаторов и столько граждан, сколько будет возможно; в доме одного из заговорщиков устроили склад оружия и Серы. В разных частях города было назначено дежурство; часть людей была назначена к иодопроводам, чтобы убивать всех, кто придет на водой.
Однако, среди заговорщиков нашлись доносчики, а, может быть, и провокаторы. Некий знатный развратник Квинт Курий, когда ТО исключенный из сената за порочное поведение, был в связи с аристократкой Фульвией. Фульвия собралась его бросить (он надоел ей, потому что не мог делать дорогих подарков); Курий неожиданно стал сулить ей золотые горы; она легко выпытала все подробности заговора и сама разболтала о них по всему Риму.
С другой стороны, Цицерону были вручены друзьями подметные письма от неизвестного человека; в этих письмах также заключались подробности о заговоре.
Цицерон провел ночь в обсуждении тех матерьялов, которые попали к нему в руки, а утром собрал заседание сената, в котором письма были прочитаны вслух.
Сенат проникся сознанием того, что отечество находится в опасности, и провозгласил Цицерона диктатором. Цицерон ежедневно ходил по улицам, охраняемый вооруженной толпой. Людей, которые должны были его убить, до него не допустили. В те места Италии, где зрел заговор, были отправлены надежные чиновники с большими полномочиями. Консулу Антонию, который склонялся на сторону Катилины, Цицерон заткнул рот, отдав ему одну из лучших провинций—Македонию. Однако, арестовать Катилину было все еще невозможно, ибо не хватало улик. Тогда Цицерон решил избрать путь словесных разоблачений, на которые он был великим мастером. Он собрал заседание сената в храме (Юпитера Статора) и произнес здесь свою знаменитую речь против Каталины.
Каталина, присутствовавший на заседании, обратился к сенаторам с речью со своей стороны. Тут он, повидимому, унизился (слаб человек), стараясь доказать, что он—аристократ, что он, как и предки его, неоднократно оказывал услуги отечеству и не мог келать его гибели, а Цицерон—даже не римский гражданин.
Речь Каталины все время прерывали; никто не хотел его слушать; отказались даже сидеть с ним рядом на той скамье, которую он занял.
Каталина продолжал ругать Цицерона. В храме поднялся ропот. Кто то обозвал Катилину преступником и врагом отечества. Цицерон повелительно приказал Катилине выйти из города, говоря: „Нас должны разделять стены, потому что я, при отправлении моей должности, употребляю только слово, а ты— оружие".
Тут Катилина увидал, что его дело проиграно, и что все против него. Его обуяла ярость, которая не знает пределов. „Если так, закричал он, я потушу развалинами пожар моего жилища!"
В ту же ночь Катилина вышел из Рима с тремя стами товарищей. Он надеялся, что город ночью будет подожжен, что враги его будут убиты, что сенат будет запуган быстротой его действий.
Катилина шел, заставляя нести перед собою связки прутьев, секиры и римские знамена, как то приличествовало консулу. По дороге к нему примыкали люди, и он набрал двадцать тысяч человек войска. Революционные надежды его, однако, не оправдались.
Римские приверженцы Катилины не подумали поджигать город. По распоряжению Цицерона, были произведены обыски, и склад оружия был открыт. Одному из заговорщиков было обещано прощение, если он выдаст остальных; выданные заговорщики были отданы под надзор сенаторов; на следующий день уже обсуждался вопрос о смертной казни.
 Цезарь склонялся к помилованью; чувствовалось, что он в этом деле—не без греха; по настояниям Цицерона и Катона, мятежники были, однако, приговорены к смерти.
Цезарь склонялся к помилованью; чувствовалось, что он в этом деле—не без греха; по настояниям Цицерона и Катона, мятежники были, однако, приговорены к смерти.
Чернь все время толпилась и любопытствовала. Заговорщиков вывели тайком, по одиночке, и казнили; Цицерон присутствовал при всех этих казнях, распоряжаясь, кого прежде предать в руки палача. Возвращаясь домой к ночи, он встретил толпу народа и крикнул: „Они мертвы!" Чернь сопровождала Цицерона рукоплесканиями и криками: „Спаситель!" „Отец отечества!"
Что касается самого Катилины, то против него были посланы надежные войска под начальством Целера и Антония. Часть банд Катилины из взбунтовавшихся рабов разбежалась; другая часть была окружена в горных проходах. Во время жестокой битвы, Катилина бросился в середину врагов и погиб.
4.
Я вспоминаю довольно известную страницу древней истории. Это—одна из многочисленных неудавшихся революций, одно из многих подавленных восстаний. Я старался только рассказать об этом такими словами, которые дали бы возможность сделать некоторые сопоставления, которые показали бы, что узоры человеческой жизни расшиваются по вечной канве. Никаких схем, никаких отвлеченных теорий я не хочу навязывать.
Я думаю, что навязыванье мертвых схем, вроде параллелей, проводимых между миром языческим и миром христианским, между Венерой и Богородицей, между Христом и Антихристом — есть занятие книжников и мертвецов; это — великий грех перед нравственно измученными и сбитыми с толку людьми, каковы многие из современных людей; ведь надо иметь мощные лебединые крылья, чтобы взлететь на них, долго держаться в воздухе и вернуться назад неопаленным и неповрежденным тем мировым пожаром, которого все мы—свидетели и современники, который разгорается и будет еще разгораться долго и неудержимо, перенося свои очаги с востока на запад и с запада и на восток, пока не запылает и не сгорит весь старый мир до тла.
И так, я не навязываю схем. Но я хотел бы, чтобы сами читатели сделали некоторые выводы из приведенных мною фактов. Чтобы помочь в этом, я старался набросать образ живого Каталины и очертить тени покойников: Саллюстия, Мария, Суллы, Цицерона. С той же целью, я хочу сейчас привлечь еще несколько соображений и фактов.
 Катилина погиб, большинство его товарищей также погибло. Что же сталось с остальными действующими лицами развернувшейся перед нами трагедии?
Катилина погиб, большинство его товарищей также погибло. Что же сталось с остальными действующими лицами развернувшейся перед нами трагедии?
Юлий Цезарь вышел из заговора невредимым; он не только с'умел замести этот чуть заметный след за собою; он раздул над твоей до гениальности хитрой головой пламя славы. Это была земная, житейская слава; она докатилась и до нашего времени; пути славы неисповедимы, но, если мы начнем разбирать те события, на которых основана слава Цезаря, мы увидим, что во главе этих событий стоит знаменитый поход против варваров, война с галлами, германцами и другими народами; в комментариях к этой войне, которым учили и учат каждаго христианского школьника нашей эпохи, автор уделяет большое внимание оправданию своих войн, доказательству необходимости торжества римского империализма.
Кабинетный стратег действительно удивил мир гениальностью своей военной тактики; хладнокровнейший честолюбец достиг действительной вершины почестей; но он всетаки пал—в ту самую минуту, когда его должны были провозгласить царем всех римских провинций; и рука, сразившая его, принадлежала к той самой „народной партии", в делах которой когда то тайно, как заговорщик, Цезарь сам принимал участие.
Так кончил Цезарь—военный сообщник и тайный враг—Каталины. Иначе кончил его штатский противник и открытый враг—Цицерон. Цицерону не была прощена казнь участников заговора Катилины. Это—один из редких примеров того, как „белый террор", обыкновенно безнаказанный, не остался без наказания. Друзья Катилины преследовали Цицерона несколько лет, и он принужден был наконец удалиться в добровольную ссылку для того, чтобы избегнуть ссылки административной. Правда, через год его вернули в Рим, и римская чернь опять встретила его ликованием; но решительность его была надломлена; он принимал меньше участия в государственных делах; говорят даже, что его мучили упреки совести. Во всяком случае, этот непрозорливый интеллигент продолжал упорно и тупо „любить отечество" в то время, когда римская империя поживала последние дни, когда готов был прозвучать из Назарета беспощадный приговор •тарой цивилизации; он продолжал руководиться старой, провинциальной, мещанской, позитивной моралью (мы видели, какая это была мораль) накануне того времени, когда в мир пришла новая мораль,—мораль, как „огнь поедающий"; он продолжал верить в политическое строительство в то время, когда государство, в котором он состоял присяжным адвокатом, обрекло само себя на гибель собственным ростом, неудержимым распуханием, напоминающим распухание трупа. Он посвятил, наконец, большую часть своей жизни, своей серенькой философии, которой он предовался в виде отдыха от государственных забот. Это была эклектическая философия, никому не обидная, принаровленная к потребностям Рима: немножко теории познания— для того, чтобы подчеркнуть скептическое отношение к метафизике; предпочтение морали всем физическим проблемам; центр тяжести— в скромном изяществе изложения; Цицерон собрал жалкие остатки меда с благоуханных цветов великого греческого мышления; с цветов, беспощадно раздавленных грубым колесом римской телеги.
В философии, изложенной Цицероном, задохнулись средние века. Люди пили эту мертвую воду до тех пор, пока Возрождение не открыло источников живой воды. Над сочинениями Цицерона теряли время школьники всех цивилизованных стран, в том числе, как все знают, и русские школьники.
Сам Цицерон только на год пережил Цезаря; он был убит, несмотря на все свои способности приспособляться к партиям, ибо затесался, против воли, в одну из бесчисленных политических авантюр.
 Это утомительное мелькание авантюр, беспрестанная смена политических комбинаций и лиц, каковы бы они ни были по своим умственным и нравственным качествам, десятки других признаков—все это само по себе могло бы убедить людей прозорливых и чутких в ТОМ, что в мире творится нечто особенное; что старыми мерами мира уже не измерить; что старые понятия уже переросли сами себя, выродились и умерли. Однако, если такой чуткостью и прозорливостью не обладали культурнейшие книжники того времени, вроде Цицерона, то что же можно было требовать с римских патрициев, с римских дам, с римских лавочников, с римских чиновников?
Это утомительное мелькание авантюр, беспрестанная смена политических комбинаций и лиц, каковы бы они ни были по своим умственным и нравственным качествам, десятки других признаков—все это само по себе могло бы убедить людей прозорливых и чутких в ТОМ, что в мире творится нечто особенное; что старыми мерами мира уже не измерить; что старые понятия уже переросли сами себя, выродились и умерли. Однако, если такой чуткостью и прозорливостью не обладали культурнейшие книжники того времени, вроде Цицерона, то что же можно было требовать с римских патрициев, с римских дам, с римских лавочников, с римских чиновников?
Заговор Катилиныбледный предвестник новаго мира—вспыхнул на минуту; его огонь залили, завалили, растоптали; заговор потух. Тот фон, на котором он вспыхнул, остался, повидимому, прежним, окраска не изменилась. Республикой попрежнему управлял никуда негодный, подкупный и дряхлый сенат. Рабы, число и бедственное положение которых росло с каждым новым триумфом римского оружия, вся эта безликая, лукавая и несчастная римская беднота (столь галантно названная филологами — „пиратами") — попрежнему дезертировала, спекулировала, продавалась за деньги; сегодня—члену одной партии, а завтра—его врагу; аристократическая сволочь, сурмившая брови красной краской, попрежнему лорнировала с любопытством рослых и здоровых варваров, купленных в рабство по сходной цене; римские барыни попрежнему красили волосы желтой краской, так как германский цвет волос был в моде. Состоятельные буржуа попрежнему держали у себя в доме комнатную собачку и грека; то и другое тоже было в моде. При этом, все эти граждане великого государства имели смелость сокрушаться о древней римской доблести; у них хватало духу говорить о „любви к отечеству и народной гордости", у них хватало бесстыдства быть довольными собой и своим отечеством: триумфально гниющим Римом.
Я не хочу множить картин бесстыдства и уродства. Я хотел бы, чтобы читатели сами дополнили их, при помощи воображения; в атом пусть поможет им наша европейская действительность. Рим был таким же студнем из многих государств, как и современная нам Европа. Одни из этих государств были при последнем издыхании; другие еще бились в агонии, целое же полагало, что оно есть великое целое, а не студень; все были также слеплены друг с другом, как нынешние; расцепить их уже не могла никакая историческая, человеческая сила; все это грызлось между собой, грабило друг друга, старалось додушить друг друга; огромное умирающее тело государственного зверя придавило миллионы людей— почти всех людей того мира; только несколько десятков выродков дотанцовывали на его спине Свой бесстыдный, вырожденный, патриотический танец. Все это, вместе взятое, называлось величественным зрелищем римской государственной мощи.
В числе задушенных людей был и Катилина вместе со всеми своими сообщниками. Между людьми того старого мира, также как и между людьми нашего старого мира, была круговая порука, безмолвное согласие, передаваемое по наследству от одних мещан к другим: эта порука заключалась и заключается в том, чтобы делать вид, будто ничего не произошло и все осталось по старому: был заговор, была революция; но революция подавлена, заговор раскрыт—и все опять обстоит благополучно; так случилось, конечно, и с восстанием Катилины. Рим, насторожившийся в предчувствии опасности, распоясался, как только ему удалось уничтожить Каталину; жизнь вошла в свои берега—до следующего раза. Мы и не могли бы, пожалуй, восстановить ритма римской жизни во время революции, если бы нам не помогла в этом наша современность и еще один небольшой памятник той эпохи. Во времена Каталины в Риме жил „латинский Пушкин", поэт Валерий Катулл. Среди многих его стихотворений, дошедших до нас, сохранилось одно, не похожее на другие ни содержанием, ни размером. Год написания этого стихотворения филологам не известен.
 Я говорю о 63-м стихотворении Катулла, озаглавленном „Аттис". Содержание его следующее: Аттис, прекрасный юноша, впал в неистовство от великой ненависти к Венере; он покинул родину, переплыл море и, вступив и священную рощу великой богини Кибелы (Magna Mater) во Фригии, оскопил себя. Тут, почувствовав себя легким, она (поэт сразу начинает говорить об Аттис—женщине, показывая тем, что превращение совершилось просто и мгновенно) подняла белоснежными руками тимпан и, дрожа, созвала жриц богини—оскопленных, как и она, „галлов"—сбросить „тупую медлительность и мчаться в божественные рощи.
Я говорю о 63-м стихотворении Катулла, озаглавленном „Аттис". Содержание его следующее: Аттис, прекрасный юноша, впал в неистовство от великой ненависти к Венере; он покинул родину, переплыл море и, вступив и священную рощу великой богини Кибелы (Magna Mater) во Фригии, оскопил себя. Тут, почувствовав себя легким, она (поэт сразу начинает говорить об Аттис—женщине, показывая тем, что превращение совершилось просто и мгновенно) подняла белоснежными руками тимпан и, дрожа, созвала жриц богини—оскопленных, как и она, „галлов"—сбросить „тупую медлительность и мчаться в божественные рощи.
Достигнув рощ богини, измученныя голодом („без Цереры") Аттис и ее спутницы погру зились в ленивый сон. Когда взошло солнце, и оне проснулись, неистовство прошло. Аттис вышла на морской берег и стала горько плакать о покинутой отчизне, сокрушаясь о том, что она над собой сделала.
Тогда разгневанная богиня послала двух свирепых львов вернуть Аттис назад. Испуганная львами нежная Аттис вновь обезумела и на всю жизнь осталась прислужницей богини.
 Стихотворение Катулла написано древним и редким размером—галлиамбом; это—размер исступленных оргийных плясок. На русском языке есть перевод Фета, к сожалению, настолько слабый, что я не решаюсь пользоваться им и позволяю себе цитировать несколько стихов полатыни для того, чтобы дать представление о размере, о движении стиха, о том внутреннем звоне, которым проникнут каждый стих.
Стихотворение Катулла написано древним и редким размером—галлиамбом; это—размер исступленных оргийных плясок. На русском языке есть перевод Фета, к сожалению, настолько слабый, что я не решаюсь пользоваться им и позволяю себе цитировать несколько стихов полатыни для того, чтобы дать представление о размере, о движении стиха, о том внутреннем звоне, которым проникнут каждый стих.
Super alta vectus Atys celeri rate maria,
Phrygium nemus citato cupide pede tetigit,
Adiit que opaca silvis redimita loca Deae
Stimuiatus ubi furenti rabie, vagus animi,
Devolvit ilia acuta sibi pondera silice.
В этих пяти строках описано, как Аттис переплыл море и как он оскопил себя. С этой минуты, стих, как сам Аттис, меняется; прерывстость покидает его; из трудного и мужественного он становится более легким, как бы, женственным: Аттис подняла тимпан и созывает жриц богини:
Itaque ut relicta sensit sibi membra sine viro,
Et jam recente terrae sola sanguine maculans,
Niveis citata cepit manibus leve tympanum,
Tympanum, tubam, Cybelle, tua, mater, initia
Quatiensque terga tauri teneris cava digitis,
Canere haec suis adorta est tremebunda comitibus:
A
gite, ite ad alta, Gallae, Cybeles nemora simul, Simul ite.
Dindvmenae dominae vaga Decora...
Далее, стих претерпевает вновь ряд изменений; он становится непохожим на латинские стихи; он как бы растекается б лирических слезах, свойственных христианской душе, в том месте, где Аттис оплакивает родину, себя, своих [фузей, своих родителей, свою гимназию, свое отрочество, свою возмужалость.
Последние три строки стихотворения показывают, что поэт сам испугался того, что он описал. Катулл взывает: Dea, magna Dea, Cybelle, Didyrai Dea domina, Procul a mea tuus sit furor omnis, hera, domo: Alios age incitatos, alios age rabidos.
Т. е.: „Великая богиня, да минует меня твое неистовство, своди с ума других, а меня оставь в покое".
Что такое стихотворение Катулла? Филологи полагают, что поэт вспомнил древний мне о праматери богов. В этом не может быть сомнения, но говорить об этом не стоит, потому что это явствует из самого содержания стихотворения. Кроме того, художники хорошо знают: стихотворения не пишутся по той причине, что поэту захотелось нарисовать историческую и миеологическую картину. Стихотворения, содержание которых может показаться совершенно отвлеченным и не относящимся к эпохе, вызываются к жизни самыми неотвлеченными и самыми злободневными событиями.
В таком случае, поправляются филологи, это—описание одной из фаз знаменитого и несчастного романа Катулла и Лезбии; может быть, та фаза, когда Лезбия стала открыто развратничать, а Катулл продолжал ее любить со страстью и ревностью, доходящими до ненависти?
Я не спорю с тем, что это вероятно; но этого тоже мало. Я думаю, что предметом этого стихотворения была не только личная страсть Катулла, как принято говорить; следует сказать наоборот: личная страсть Катулла, как страсть всякого поэта, была насыщена духом эпохи; ее судьба, ее ритмы, ее размеры, так же, как ритм и размеры стихов поэта, были внушены ему его временем; ибо в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он „свое" и „не свое"; поэтому, в эпохи бурь и тревог, нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой.
Катулла никто еще, кажется, не уп рекал в нечуткости. Я считаю себя вправе утверждать, ЧТО Катулл, в числе других римских поэтов (которых, кстати, тогда так же мало читали, как поэтов нынешних), не был таким чурбаном и дубиной, чтобы воспевать какие то покойные римские гражданские и религиозные доблести в угоду меценатам и императорам (как склонны полагать филологи); право, иногда может показаться, что ученых филологов преследует одна забота: во что бы то ни стало, скрыть сущность истории мира, заподозреть всякую связь между явлениями культуры, с тем, чтобы в удобную минуту разорвать эту связь и оставить своих послушных учеников бедными скептиками, которым никогда не увидеть леса за деревьями.
рекал в нечуткости. Я считаю себя вправе утверждать, ЧТО Катулл, в числе других римских поэтов (которых, кстати, тогда так же мало читали, как поэтов нынешних), не был таким чурбаном и дубиной, чтобы воспевать какие то покойные римские гражданские и религиозные доблести в угоду меценатам и императорам (как склонны полагать филологи); право, иногда может показаться, что ученых филологов преследует одна забота: во что бы то ни стало, скрыть сущность истории мира, заподозреть всякую связь между явлениями культуры, с тем, чтобы в удобную минуту разорвать эту связь и оставить своих послушных учеников бедными скептиками, которым никогда не увидеть леса за деревьями.
Дело художника — истинного врага такой филологии—восстанавливать связь, расчищать горизонты от той беспорядочной груды ничтожных фактов, которые, как бурелом, загораживают все исторические перспективы.
Я верую, что мы не только имеем право, но и обязаны считать поэта связанным с его временем. Нам все равно, в каком именно году Катулл написал „Аттиса"; тогда ли, когда заговор Каталины только созревал, или когда он вспыхнул или, когда он толькочто был подавлен. О том, что это было именно в эти годы, спору нет, потому что Катулл писал именно в эти годы. „Аттис" есть создание жителя Рима, раздираемого гражданской войной. Таково для меня об'яснение и размера стихотворения Катулла и даже—его темы.
Представьте себе ту нечеловеческую ярость, которая охватила озлобленного и унизившегося Катилину в храме Юпитера СтатораПродажные сенаторы не пожелали сидеть с ним на одной скамье и повернулись к нему спиной. Инициатор всей этой пышной церемонии избрал нарочно ее местом храм, как будто храм есть именно то место, где можно и должно оскорблять и травить человека, каков бы этот человек ни был. Вся церемония была инсценирована. В нужную минуту были оглашены анонимные письма. В заключение, самый унижаемый и самый ученый муж города, не погнушавшийся связаться с сенаторами во имя спасения отечества, раз'играв всю эту унизительную комедию, кончил тем, что вылил на «отравленного человека ушат блестящего адвокатского красноречия; Каталине оставалось, как будто, одно: захлебнуться в море уничтожающих цицероновских слов. Но Каталина отряхнулся. Он довольно таскался по грязным притонам и достаточно огрубел; брань не повисла у него на вороту; ему помогло стряхнуть тяжесть и обуявшее его неистовство; он, как бы, подвергся метаморфозе, превращению. Ему стало легко, ибо он „отрекся от старого мира" и „отряс прах" Рима от своих ног.
Представьте себе теперь темные улицы большого города, в котором часть жителей развратничает, половина спит, немногие мужи совета бодрствуют, верные своим полицейским обязанностям, и большая часть обывателей, как всегда и везде, не подозревает о том, что в мире чтонибудь происходит. Большая часть людей всегда ведь просто не может себе представить, что бывают события. В этом заключается один из величайших соблазнов нашего здешнего существования. Мы можем спорить и расходиться друг с другом во взглядах до ярой ненависти, но нас все же об'единяет одно: мы знаем, что существует религия, наука, искусство; что происходят события в жизни человечества: бывают мировые войны, бывают революции; рождается Христос. Все это, или хоть часть этого, для нас—аксиома; вопрос лишь в том, как относиться к этим событиям. Но те, кто так думает, всегда—в меньшинстве. Думает меньшинство и переживает меньшинство, а людская масса—вне всего этого; для нее нет такой аксиомы;для нее—событий не происходит.
Вот на этомто черном фоне ночного города (революция, как все великие события, всегда подчеркивает черноту)—представьте себе ватагу, впереди которой идет обезумевший от ярости человек, заставляя нести перед собой знаки консульского достоинства. Это—тот же Катилина, недавний баловень львиц римского света и полусвета, преступный предводитель развратной банды; он идет все той же своей— „то ленивой, то торопливой" походкой; но ярость и неистовство сообщили его походке музыкальный ритм; как будто, это уже не тот — корыстный и развратный Катилина; в поступи этого человека—мятеж, восстание, фурии народного гнева.
Напрасно стали бы мы искать у историков отражений этого гнева, воспоминаний о револю ционном неистовстве Катилины, описаний той напряженной грозовой атмосферы, в которой жил Рим этих дней. Мы не найдем об этом ни слова ни в разглагольствованиях Саллюстия, ни в болтовне Цицерона, ни в морализировании Плутарха. Но мы найдем эту самую атмосферу у поэта — в тех галлиямбах Катулла, о которых мы говорили.
Вы слышите этот неровный, торопливый шаг обреченного, шаг революционера, шаг, в котором звучит буря ярости, разрешающаяся в прерывистых музыкальных звуках?
Слушайте его:
Super alta vectus Attis celeri rate maria,
Phrygium nemus citato cupide pede tetigit...
 От дальнейших сопоставлений я воздержусь; они завели бы меня слишком далеко и соблазнили бы на построение схем, которое, повторяю, кажется мне самым нежелательным приемом — подсовываньем камня вместо хлеба. Я хочу указать только, что приемы, которыми я (удачно или неудачно) пользовался, кажутся мне единственным путем, идя по которому можно возстановить разрушенную филологами историю культуры. Эти приемы отличаются двумя особенностями: 1) я обращаюсь не к академическому изучению первой попавшейся исторической эпохи, а выбираю ту эпоху, которая наиболее соответствует в историческом процессе моему времени. Сквозь призму моего времени я вижу и понимаю яснее те подробности, которыя не могут не ускользнуть от исследователя, подходящего к предмету академически; 2) я прибегаю к сопоставлениям явлений, взятых из областей жизни, казалось бы, не имеющих между собой ничего общего; 1 данном случае, например, я сопоставляю римскую революцию и стихи Катулла. Я убежден, что только при помощи таких и подобных таким сопоставлений можно найти ключ к эпохе, Можно почувствовать ее трепет, уяснить себе I е смысл.
От дальнейших сопоставлений я воздержусь; они завели бы меня слишком далеко и соблазнили бы на построение схем, которое, повторяю, кажется мне самым нежелательным приемом — подсовываньем камня вместо хлеба. Я хочу указать только, что приемы, которыми я (удачно или неудачно) пользовался, кажутся мне единственным путем, идя по которому можно возстановить разрушенную филологами историю культуры. Эти приемы отличаются двумя особенностями: 1) я обращаюсь не к академическому изучению первой попавшейся исторической эпохи, а выбираю ту эпоху, которая наиболее соответствует в историческом процессе моему времени. Сквозь призму моего времени я вижу и понимаю яснее те подробности, которыя не могут не ускользнуть от исследователя, подходящего к предмету академически; 2) я прибегаю к сопоставлениям явлений, взятых из областей жизни, казалось бы, не имеющих между собой ничего общего; 1 данном случае, например, я сопоставляю римскую революцию и стихи Катулла. Я убежден, что только при помощи таких и подобных таким сопоставлений можно найти ключ к эпохе, Можно почувствовать ее трепет, уяснить себе I е смысл.
5.
Итак, римский „большевик" Катилина погиб. Римские граждане радовались; они решили, что „собаке—собачья смерть". Знаменитые писатели разделили мнение своих сограждан в своих сочинениях.
Когда родился Христос, перестало биться сердце Рима. Организм монархии был так громаден, что потребовались века для того, чтобы все члены этого тела перестали судорожно двигаться; на периферии почти никто не знал о том, что совершилось в центре. Знали об этом только люди в катакомбах.
Но века прошли; империя прекратила не только бытие, но и существование. Варварский вихрь занес многое землей и развалинами; в том числе—сочинения знаменитых римских писателей.
Прошла тысяча лет. Вихрь Возрождения снес земляные пласты и обнаружил остатки римской цивилизации, в том числе—сочинения Саллюстия.
К чему же послужили эти сочинения?— К воскрешению грозного духа Каталины. Какие то итальянские юноши замыслилиубить миланского тирана Галеаццо Сфорца.
Они устроили настоящий заговор, упражнялись в искусстве наносить смертельный удар кинжалом и, действительно, убили тирана в церкви. По собственному их признанию (в Летописи города Сиены) оказалось, что они научали Саллюстия и находились под влиянием заговора Катилины.
 Юношей, конечно, подвергнули пыткам и умертвили. Но дух римского „большевизма" продолжал жить. Катилина изстари поминался в итальянских народных легендах. В цивилилизованном обществе представление о Катилине раздвоилось: гласно, легально, в школах, в ученых сочинениях— Катилина изображался гнусным злодеем; негласно, нелегально, в художественной литературе и в жизни молодежи—образ Катилины принимал иные очертания. Даже во Франции первой половины XVIII века, казалось бы, совершенно неожиданно появилась трагедия Кребильона „Катилина". Впрочем, автор и сам почувствовал неловкость, когда ему пришлось несколько прими |ить Цицерона для того, чтобы лучше изобразить Катилину. Чтобы исправить свою ошибку, Кребильон принялся за сочинение новой трагедии, по настоянию своей придвор ной покровительницы— Madame de Pompadour.
Юношей, конечно, подвергнули пыткам и умертвили. Но дух римского „большевизма" продолжал жить. Катилина изстари поминался в итальянских народных легендах. В цивилилизованном обществе представление о Катилине раздвоилось: гласно, легально, в школах, в ученых сочинениях— Катилина изображался гнусным злодеем; негласно, нелегально, в художественной литературе и в жизни молодежи—образ Катилины принимал иные очертания. Даже во Франции первой половины XVIII века, казалось бы, совершенно неожиданно появилась трагедия Кребильона „Катилина". Впрочем, автор и сам почувствовал неловкость, когда ему пришлось несколько прими |ить Цицерона для того, чтобы лучше изобразить Катилину. Чтобы исправить свою ошибку, Кребильон принялся за сочинение новой трагедии, по настоянию своей придвор ной покровительницы— Madame de Pompadour.
Новая и досгойная человечества оценка Каталины была произведена, однако, только в половине прошлого века. После этого филологи могут не беспокоиться; оценка сделана одним из величайших писателей XIX века.
6.
Через девятнадцать столетий после гибели Каталины, двадцатилетний юноша, аптекарский помощник, а впоследствии—великий писатель Генрих Ибсен, вдохновленный всемирной революцией 1848 года, показал истинные побуждения римского революционера— Каталины.
 „Без чтения Цицерона и Саллюстия поэт, вероятно напал бы на этот сюжет", верно говорит об Ибсене один из его критиков. Сам Ибсен рассказывает, как он „с жадностью проглотил" „Каталину" Саллюстия и речи Цицерона: „через несколько месяцев у меня уже была готова драма. Как видно из нее, я в то премя не разделял воззрений двух этих древних писателей на характер и поступки Каталины, да и до сих пор склонен думать, что должен же был представлять из себя нечто великое или значительное человек, с которым неутомимый адвокат Цицерон не считал удобным сразиться до тех пор, пока обстоятельства не приняли такого оборота, что нападки на него уже перестали грозить какойлибо опасностью. Надо также помнить, что в истории найдется мало лиц, чья память находилась бы и большей зависимости от врагов, чем память Каталины".
„Без чтения Цицерона и Саллюстия поэт, вероятно напал бы на этот сюжет", верно говорит об Ибсене один из его критиков. Сам Ибсен рассказывает, как он „с жадностью проглотил" „Каталину" Саллюстия и речи Цицерона: „через несколько месяцев у меня уже была готова драма. Как видно из нее, я в то премя не разделял воззрений двух этих древних писателей на характер и поступки Каталины, да и до сих пор склонен думать, что должен же был представлять из себя нечто великое или значительное человек, с которым неутомимый адвокат Цицерон не считал удобным сразиться до тех пор, пока обстоятельства не приняли такого оборота, что нападки на него уже перестали грозить какойлибо опасностью. Надо также помнить, что в истории найдется мало лиц, чья память находилась бы и большей зависимости от врагов, чем память Каталины".
 Это пишет Ибсен о своей драме почти через 30 лет; это— Ибсен уже давно возмужалый, получивший всеобщее признание, про| навившийся и потому—устающий: тот Ибсен, которого прилежные критики изо всех сил I тараются спасти от обвинений в революционности.
Это пишет Ибсен о своей драме почти через 30 лет; это— Ибсен уже давно возмужалый, получивший всеобщее признание, про| навившийся и потому—устающий: тот Ибсен, которого прилежные критики изо всех сил I тараются спасти от обвинений в революционности.
Доказывать, что Ибсен был социалистом, едва ли придет комунибудь в голову. Но едва ли могут быть сомнения в том, что Ибсен был революционером. Его пресловутый „аристократизм" и „индивидуализм" суть та полуложь, полуправда, при помощи которых толкователи не раз приспособляли писателя к пониманию обывательскому, оказывая ему тем хорошую личную услугу (в смысле, например, хорошего сбыта его произведений на книжном рынке, пока этот рынок находится в руках буржуазии); не знаю, очень ли плоха та услуга, которую они оказали Ибсену и многим другим, с'узив смысл их произведений; думаю, что это лишь временный ущерб, дело десятков лет, или столетий—все равно. Дело Катилины гласно считалось проигранным в течение девятнадцати столетий, и однако, по прошествии их, миру пришлось вспомнить о Каталине, потому, между прочим, что о нем ему напомнил великий художник.
Устающий и уставший Ибсен не сопротивлялся толкованиям критиков; но дело совсем не в том, что он оставил „революционные бредни" своей молодости; Ибсен многократно настаивал на том, что все его творения представляют одно целое: „я не желал бы, чтобы хоть что нибудь из оставшегося теперь позади было выброшено из моей жизни" (1875); „лишь восприняв и усвоив себе мою литературную деятельность во всей ее совокупности, как одно последовательно развившееся целое, возможно получить и от отдельных его частей верное, соответствующее моим намерениям, впечатление" (1898).
Стареющий художник отличается от молодого только тем, что замыкается в себе, углубляется в себя. Изменить самому себе художник никак не может, даже, если бы он этого хотел. Я говорю об этом вовсе не затем, чтобы оправдывать художника, не нуждающегося в оправдании; да и кощунственно было бы так оправдывать художника, ибо сама эта истина нередко заключает в себе источник личной трагедии для него.
Вернемся к „Каталине".
Пока филологи предаются кропотливым изысканиям о том, в каком году, каким способом и кого именно убил Катилина, пока они анализируют обстоятельства, под влиянием которых он вступил на революционный путь,художник дает синтетический образ Катилины.
Катилина следует долгу, как „повелевает ему тайный голос из глубины души". „Я должен!"—таково первое слово Катилины и первое слово драматурга Ибсена.—Катилина ищет, чем утолить „страстную душевную тоску" в мире, где „властвуют корысть и насилие" и потому, Катилина—„друг свободы".
„Единственное, что я ценю в свободе, это— борьбу за нее; обладание же ею меня не интересует", писал Ибсен к Брандесу уже во время следующей революции (1871 года). „Вы делаете меня ненавистником свободы. Вот петух! Дело в том, что душевное равновесие остается у меня довольно неизменным, так как я считаю нынешнее несчастье французов (т. е., поражение! А. Б.) величайшим счастьем, какое только могло выпасть на долю этого народа...
То, что вы называете свободой, я зову вольностями; н то, что я зову борьбой за свободу, есть ни что иное, как постоянное живое усвоение идеи свободы. Всякое иное обладание свободой, исключающее постоянное стремление к ней, мертво и бездушно. Ведь само понятие свободы тем и отличается, что все расширяется по мере того, как мы стараемся усвоить его себе. Поэтому, если кто во время борьбы за свободу остановится и скажет: вот, я обрел ее, тот докажет как раз то, что ее утратил. Такойто мертвый застой, такое пребывание на одном известном пункте свободы и составляет характерную черту наших государств, и это я не считаю за благо". Устами Каталины говорит в драме Ибсена демоническая весталка Фурия:
Я ненавижу этот храм вдвойне За то, что жизнь течет здесь так спокойно, В стенах его опасностям нет места. О, эта праздная, пустая жизнь, Существованье тусклое, как пламя Лампады, угасающей без масла!.. Как тесно здесь для полноты моих Широких целей, пламенных желаний!.. Мысль в дело не стремится перейти!
Ибсеновскому Катилине свойственны: великодушие, кротость и мужество, которых нет у окружающих его людей; цель его, „пожа луй, выше, чем кто либо указывает здесь". Перед ним „проносились великие виденья", он мечтал, что „вознесся к небесам на крыльях, как Икар".
 Когда мечты эти рушились, так как вокруг царствовали только измена, низость, шпионство, стремления к господству и богатству и женские обиды, Катилина восклицает:
Когда мечты эти рушились, так как вокруг царствовали только измена, низость, шпионство, стремления к господству и богатству и женские обиды, Катилина восклицает:
Пусть так! Моя рука восстановить
Не в силах Рима древнего, так пусть же
Она погубит современный Рим!
Перед смертью Катилина говорит:
И я — глупец с затеями своими!
Хотел я Рим — змеиное гнездо—
Разрушить, раздавить; а Рим давно —
Лишь куча мусора...
Рядом с Катилиной, через всю его жизнь, проходят две женщины—демоническая и тихая—те самые, которые проходят через жизнь всех героев Ибсеновских драм. Одна, соблазненная им когдато, неотступно следует за ним по пятам; внешним образом она—носительница призыва к восстанию; в глубине, напротив, она ищет только его гибели. Другая— „утренняя звезда" Катнлины и зовет его к тишине; он убивает ее своей рукой за то, что она, как ему кажется, „хотела его обречь На ужас полу жизни".
Убивший свою утреннюю звезду и с нею имеете „все сердца земные, все живое и все, что зеленеет и цветет", и сам убитый другою женщиной, Каталина ждет пути „налево, в мрачный ад", но душа его попадает, вместе с душою убитой жены, „направо, в Элизиум". Это (несколько неумелое и наивное) окончание юношеской драмы и дало критике один из поводов считать Ибсена не демократом.
Сама наивная схематичность этого заключения говорит о его большой внутренней сложности, которой двадцатилетний юноша не мог преодолеть. Мало того, ее не преодолел, может быть, Ибсен и во всем своем дальнейшем творчестве. У меня нет ни времени, пи места, ни сил, ни права для того, чтобы развивать сейчас эту тему. Скажу только, ЧТО речь здесь идет не о демократии и не об аристократии, а о совершенно ином; вследствие 1Т0ГО, критикам не надлежало бы особенно радоваться тому, что Каталина идет „направо". Вряд ли, это—та спасительная „правоеть", которая дает возможность сохранить разные „вольности"; Ибсеновский Каталина, как мы видели, был другом не свалившихся с неба прочных и позитивных „вольностей"; он был другом вечно улетающей свободы.
Критикам надлежало бы, однако, обратить свое внимание на то, что Ибсен, на 48м году своей многотрудной жизни, вне всяких революций, обработал, „вовсе не касаясь идей, образов и развития действия", и переиздал свою юношескую драму, которая заканчивается отнюдь не либерально: достойным Элизиума и сопричтенным любви оказывается именно бунтовщик и убийца самого святого, что было в ж и з н и,—К а т и л и н а.
Апрель 1918.
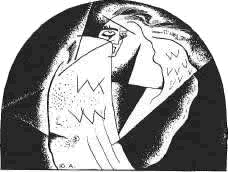
Приложения
ИЗ РЕЦЕНЗИЙ НА «КАТИЛИНУ»
Н. ЛЕРНЕР
«КАТИЛИНА» А. БЛОКА
 Александр Блок. Каталина. Страница из истории мировой революции. Изд. «Алконост». Петербург, 1919 г. Цена 3 р. 50 коп.
Александр Блок. Каталина. Страница из истории мировой революции. Изд. «Алконост». Петербург, 1919 г. Цена 3 р. 50 коп.
Новое произведение А. Блока экскурс в область не столько самой истории, сколько психологии истории. Каталина дал ему лишь канву, на которой он вышил узоры своих мыслей о природе революционера, этой истинной стихии революции. «Филологи», к которым автор относится с незаслуженным пренебрежением, давно уже подвергли строгой критике исторические материалы, где партийные враги знаменитого бунтовщика не поскупились на темные краски для портрета Каталины, но так и остается неясным, к чему стремится этот человек. Блок также не дает объяснения, но, впрочем, не это было его целью. «Я выбираю, говорит он, ту эпоху, которая наиболее соответствует и историческом процессе моему времени». Этот выбор нисколько автором не мотивирован и, конечно, не более обоснован, чем всевозможные аналогии «филологов», но не в нем дело: «Я думаю, что навязыванье мертвых схем, вроде параллелей, проводимых между миром языческим и миром христианским есть занятие книжников и мертвецов; это великий грех перед нравственно измученными и сбитыми с толку л юдьми, каковы многие из современных людей. Ведь надо иметь мощные лебединые крылья, чтобы взлететь на них, долго держаться в воздухе и вернуться назад не опаленным и не поврежденным тем мировым пожаром, которого все мы свидетели...»
Чего хочет сам автор? Его, как поэта, пленяет полноводное кипение жизни. Он описывает «великий век», создавший «взяточника Саллюстия и честного законника Цицерона», которо го обвиняют в мелочном и недальновидном политическом интриганстве, «но (!) тот же век создал царицу цариц Клеопатру, битву при Акциуме, в которой римский триумвир отдал весь флот великой державы за любовь египтянки; он же создал, наконец, и революционный порыв промотавшегося беззаконника и убийцы Катилины». Улыбка Клеопатры и порыв Каталины в глазах поэта равноценны, к моральному и эстетическому принципу он относится одинаково равнодушно... Но это лишь свидетельствует о его художественнопсихологической объективности, и мы узнаем автора «Двенадцати» в характеристике прирожденного революционера, создающего <так!> революционным неравенством не народолюбца, не теоретика, а существа, обуреваемого духом революции. «Простота и ужас душевного строя обреченного революционера заключается в том, что из него как бы выброшена длинная цепь диалектических и чувственных посылок, благодаря чему выводы мозга и сердца представляются дикими, случайными, ни на чем не основанными. Такой человек безумец, маниак, одержимый. Жизнь про текает, как бы подчиняясь другим законам причинности, пространства и времени... У иных людей, наряду с материальными и корыстными целями могут быть цели очень высокие нелегко определяемые и осязаемые. Этому нас, русских, научил, например, Достоевский. Поведение подобных людей выражается в поступках, которые диктуются темпераментом каждого: о/щи таятся и не проявляют себя во внешнем действии, сосредоточивая все силы на действии внутреннем; таковы писатели, художники; другим, напротив, необходимо бурное, физическое, внешнее проявление; таковы активные революционеры. Те и другие одинаково наполнены бурей и одинаково "сеют ветер"... I Напрасно думать, что "сеяние ветра" есть только человеческое занятие, внушаемое одной лишь человеческой волей. Ветер поднимается Не по воле отдельных людей; отдельные люди чуют и как бы только собирают его: одни дышат этим ветром, живут и действуют, надышавшись им; другие бросаются в этот ветер, подхватываются им, живут и действуют, несомые Ветром. Катилина принадлежал к последним».
Роман ГУГЛЬ
Александр Блок. «Катилина» (страница из истории мировой революции), изд. Алконостъ. Петербург, 1921 г.
Блок берет полузабытый эпизод неудавшегося восстания Катилины за четыре с половипой века до падения Античного Мира и свободно трактует патриция Люция Сергия Каталину «римским большевиком», а между старой Римской империей и современной Европой проводит параллели сходства.
«Старый мир», величественный и могучий извне, загнивал и разваливался изнутри. На атом фоне выступает фигура Катилины.
«О том, что Катилина был народолюбцем или мечтал о всеобщем равенстве, речи быть не может. Он был революционером всем духом, Всем телом, он был создан социальным неравенством, вскормлен в его удушливой атмосфере, ОН соединил в себе все пороки современного ему общества, доведя их до легендарного уродства».
Катилина инстинктивный разрушитель, он задохнулся в загнивающей атмосфере «старого мира», и его охватила страсть разрушения этого «старого», во имя неведомого ему, но молодого.
«Но напрасно думать, что "сеяние ветра" есть только человеческое занятие, внушаемое одной человеческой волей. Ветер поднимается не по воле отдельных людей, отдельные люди чуют и как бы только собирают его; одни дышат этим ветром, другие бросаются в этот ветер, подхватываются им, живут и действуют несомые ветром. Катилина принадлежал к последним. В его время подул ветер разросшийся в бурю, истребившую старый языческий мир. Его подхватил ветер, подувший перед рождением Христа, вестника Нового мира».
Книга имеет интерес не столько исторический для понимания «страницы мировой революции» (экскурс Блока в эту область слишком дилетантский), сколько психологический, для понимания настроений самого поэта Блока.
Благодарность издательству "Прогресс-Плеяда"
за репринтное переиздание этой очень редкой книги Блока.